3 ХАРОЛЬД ДЖ. МОРОВИЦ Новое открытие разума
3
ХАРОЛЬД ДЖ. МОРОВИЦ
Новое открытие разума
Вот уже около 100 лет в науке происходит нечто необычное. Многие исследователи об этом не подозревают, в то время как другие не признаются в этом даже своим коллегам. Тем не менее, в воздухе науки чувствуются странные веяния.
Происходит следующее: биологи, которые когда-то отводили человеческому разуму привилегированное место в иерархии природы, непрерывно двигаются в сторону воинствующего материализма, каким отличалась физика девятнадцатого века. Одновременно с этим физики, убежденные экспериментальными результатами, постепенно отходят от механистических моделей вселенной и признают, что человеческий разум является неотъемлемой частью физических явлений. Похоже на то, что эти две дисциплины несутся в поездах навстречу друг другу, не замечая при этом, что творится на соседних путях.
Этот обмен ролями между биологами и физиками поставил современных психологов в двойственное положение. С биологической перспективы, психолог изучает явления далеко не такие достоверные, как явления микроскопического мира атомов и молекул. С перспективы физиков, психолог имеет дело с “разумом”, неопределенным примитивным явлением, одновременно необходимым и непроницаемым. Ясно, что оба взгляда в какой-то мере правомерны, и решение этой проблемы будет важнейшим шагом в сторону углубления и расширения фундамента науки о поведении.
В последнее время изучение жизни на всех уровнях, от социального до молекулярного, опиралось для объяснения явлений на понятие редукционизма. Этот подход к знаниям пытается понять явления одного уровня научных феноменов в терминах другого, низшего, предположительно более фундаментального уровня. В химии сложные реакции объясняются с точки зрения поведения молекул. Таким же образом физиологи изучают деятельность живой клетки в терминах процессов, происходящих на уровне органелл и других субклеточных элементов. В геологии происхождение и свойства минералов описываются в терминах составляющих их кристаллов. Основным во всех этих случаях является поиск объяснения на низших уровнях.
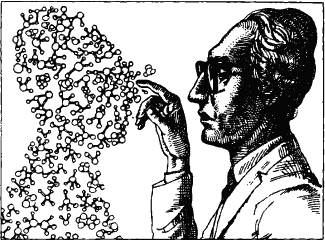
Иллюстрации Виктора Юхаша.
Примером редукционизма на психологическом уровне является бестселлер Карла Сагана “Драконы Эдема”. Он пишет: “Моя основная посылка касательно мозга заключается в том, что его работа — которую мы иногда называем “разумом” — это следствие его анатомии и физиологии, и ничего более.” Дальнейшим подтверждением этой мысли является отсутствие в списке терминов Сагана таких слов как разум, сознание, восприятие, осознание и мысль. Вместо них в книге используются синапс, лоботомия, белки и электроды.
Подобные попытки свести человеческое поведение к его биологической основе имеют долгую историю и восходят к ранним дарвинистам и их современникам, работавшим в области физиологической психологии. До девятнадцатого века дуализм “тело-разум”, центральное понятие в философии Декарта, помещал человеческий разум вне сферы биологии. Эволюционисты с их вниманием к нашей “обезьянности” сделали нас объектом биологических исследований при помощи методов, применявшихся к человекообразным обезьянам и, по аналогии, к другим животным. Павловская школа развила эту тенденцию, и она легла в основу многих бихевиористских теорий. Хотя между физиологами не существует абсолютного согласия о том, насколько далеко могут заходить редукционистские объяснения, большинство из них соглашаются с тем, что в наших действиях имеются гормональный, нейрологический и физиологический компоненты. Хотя объяснение, предлагаемое Саганом, и находится в русле основной традиции в психологии, оно достаточно радикально, так как постулирует возможность полного объяснения в терминах нижнего уровня. Именно на эту цель, как мне кажется, указывает фраза Сагана “и ничего более”.
В то время как различные школы психологии пытались свести свою науку к биологии, другие исследователи жизни искали еще более базовые уровни объяснения. Их взгляды выражены в сочинениях известного популяризатора молекулярной биологии Фрэнсиса Крика. Его книга “О молекулах и людях” атакует витализм, доктрину, согласно которой биологию следует объяснять через некую “жизненную силу”, лежащую за пределами физики. Крик пишет: “Конечная цель современной биологии — объяснение всех биологических процессов в терминах физики и химии.” Далее он объясняет, что под физикой и химией он подразумевает уровень атомов, где наши знания достаточно полны. Выделяя курсивом слово “всех”, Крик выражает позицию радикального редукционизма, взгляда, доминирующего среди целого поколения биохимиков и молекулярных биологов.
* * *
Если мы сейчас сведем воедино психологический и биологический редукционизм и предположим, что они частично совпадают, мы получим серию объяснений, переходящих от разума к анатомии и физиологии, далее к клеточной физиологии, затем к молекулярной биологии и, наконец, к атомной физике. Предполагается, что все это знание опирается на прочный фундамент нашего понимания законов квантовой механики, новейшей и самой полной теории атомных структур и процессов. В данном контексте психология становится разделом физики — результат, могущий обеспокоить обе группы специалистов.
Попытка полностью объяснить человеческие существа в терминах физической науки — не новая идея. Подобные взгляды бытовали среди европейских физиологов уже в середине девятнадцатого столетия. Представитель этой школы, Эмиль Дюбуа-Реймонд, выразил экстремальное мнение во введении к своей книге о животном магнетизме, опубликованной в 1848 году. Он написал: “Если бы наши методы были достаточно совершенными, то была бы возможна аналитическая механика (физика Ньютона) общих процессов жизни, — механика настолько фундаментальная, что она объясняла бы даже свободную волю”.
В словах этих ранних ученых можно усмотреть некое высокомерие, которое позже было подхвачено Томасом Хаксли и его коллегами в их защите дарвинизма. Даже сегодня мы улавливаем эхо этого высокомерия в теориях современных редукционистов, которые пытаются перепрыгнуть от разума к атомной физике. В настоящее время это более всего заметно в работах социобиологов, чьи аргументы оживляют сегодняшний интеллектуальный пейзаж. Так или иначе, взгляды Дюбуа-Реймонда совместимы с идеями современных представителей радикального редукционизма, с той разницей, что в качестве опорной дисциплины механику Ньютона заменила квантовая механика.
Пока психологи и биологи упорно работали над сведением их наук к физике, большинство из них понятия не имело о новых перспективах, возникающих в этой области — перспективах, бросающих иной свет на их знания. В конце девятнадцатого столетия физики рисовали весьма упорядоченную картину мира, события в котором разворачивались регулярно и правильно, в соответствии с уравнениями законов механики Ньютона и электричества Максвелла. Эти процессы были неизбежны и не зависели от ученых — те были просто зрителями. Многие физики считали, что в их науке уже сделано все.
Начиная с открытия теории относительности Эйнштейна в 1905 году, эта аккуратная картинка была бесцеремонно подпорчена. Новая теория утверждала, что наблюдатели в различных системах, двигающихся относительно друг друга, видят мир по-разному. Таким образом наблюдатель оказался замешанным в определении физической реальности. Ученый терял роль зрителя и становился активным участником изучаемой системы.

С развитием квантовой механики роль наблюдателя стала еще более важной в физической теории, определяющей в физических событиях. Разум наблюдателя оказался необходимым элементом в структуре теории. Следствия этой возникающей парадигмы весьма удивили первых специалистов по квантовой механике и заставили их изучать эпистемологию и философию науки. Насколько я знаю, никогда прежде в истории науки ведущие ученые не публиковали книг о философском и гуманистическом значении своих результатов.
Вернер Гейзенберг, один из основателей новой физики, оказался вовлеченным в философские и гуманистические проблемы. В “Философских проблемах квантовой физики” он писал, что физики должны отказаться от мыслей об объективной временнОй шкале, единой для всех наблюдателей, и о событиях во времени и пространстве, независимых от нашей способности наблюдать их. Гейзенберг подчеркнул, что вместо элементарных частиц законы природы теперь имеют дело с нашим знанием об этих частицах — то есть с содержанием нашего разума. Эрвин Шредингер, сформулировавший фундаментальное уравнение квантовой механики, написал в 1958 году короткую книгу под названием “Разум и материя”. В этой серии эссе он от результатов новой физики пришел к мистическому взгляду на вселенную, который он идентифицировал с “вечной философией” Олдоса Хаксли. Шредингер первым из теоретиков квантовой физики выразил симпатию к идеям “Упанишад” и восточной философской мысли. В настоящее время растет число книг, выражающих эти идеи; среди них — две популярные работы: “Дао физики” Фритхофа Капра, “Танцующие мастера By Ли” Гэри Зукава. Проблемы, с которыми сталкивается квантовая физика, хорошо выражены в парадоксе “Кто убил кота Шредингера?”. В гипотетическом эксперименте котенок сажается в закрытый ящик; туда же кладется пузырек яда и молоточек, готовый разбить пузырек. Молоточек приводится в действие счетчиком, фиксирующим случайные события, такие как радиоактивный распад. Эксперимент продолжается ровно столько времени, чтобы вероятность того, что пузырек с ядом будет разбит, равнялась одной второй. Квантовая механика представляет эту ситуацию математически как сумму функции живого кота и функции мертвого кота, каждая с вероятностью одна вторая. Вопрос в том, убивает или спасает кота вмешательство наблюдателя — ведь до того, как он смотрит на счетчик Гейзера, оба исхода одинаково возможны.
Этот шутливый пример отражает значительную концептуальную трудность. Говоря более формальным языком, сложная система может быть описана только в терминах вероятности того или иного результата эксперимента. Чтобы узнать, каков именно результат данного эксперимента, необходимо произвести измерения. Именно эти измерения и являются физическим событием, в отличие от вероятности, являющейся математической абстракцией. Единственное простое и последовательное описание измерения включает наблюдателя, осознающего результат. Таким образом физическое событие и человеческий разум становятся неразделимы. Эта связь заставила физиков рассматривать сознание как существенную часть структуры физики. Подобная интерпретация подвинула физику в сторону идеалистической концепции философии.
Взгляды многих современных физиков суммированы в эссе “Заметки о проблеме Разума-Тела”, написанном нобелевским лауреатом Юджином Винером. В начале Винер указывает, что большинство физиков вернулись к признанию того, что мысль (или разум) первична. Он утверждает: “Нельзя было сформулировать непротиворечивые законы квантовой механики, не включив в них сознание.” И в заключение он отмечает, насколько замечательно то, что научное изучение мира привело нас к содержанию нашего сознания как к первичной реальности.
Дальнейшее развитие еще одной ветви физики поддерживает точку зрения Винера. Информатика в ее приложении к термодинамике утверждает, что основное понятие этой науки, энтропия, не что иное как мера незнания наблюдателем деталей атомной структуры системы. Измеряя давление, объем и температуру объекта, мы не знаем многого о точных позициях и скоростях атомов и молекул, составляющих этот объект. Числовое значение количества недостающей информации пропорционально энтропии. В более ранней версии термодинамики энтропия, в инженерном смысле слова, представляла собой количество энергии, недоступное для производства внешней работы. В современном варианте науки значительную роль в картине играет человеческий разум, и энтропия соотносится не только с состоянием системы, но и с нашим знанием о состоянии системы.
“Менталистская” картина мира вовсе не была целью основателей современной атомной теории. Напротив, они начали с противоположной точки зрения, и им пришлось перейти на современные позиции, чтобы объяснить результаты экспериментов.
Теперь мы можем свести воедино перспективы трех крупных областей науки: психологии, биологии и физики. Скомбинировав идеи трех выразителей различных взглядов, Сагана, Крика и Винера, мы получаем довольно неожиданную картину.
Во-первых, человеческий разум, включая сознание и мысли о самом себе, может быть объяснен в терминах деятельности центральной нервной системы, которая, в свою очередь, может быть сведена к уровню биологической структуры и функций данной физиологической системы. Во-вторых, биологические явления могут быть полностью поняты в терминах атомной физики, то есть в терминах действия и взаимодействия составляющих систему атомов углерода, азота, кислорода и т.д. И наконец, атомная физика, наиболее полно понимаемая в терминах квантовой механики, должна содержать разум в качестве основного компонента системы.
Таким образом, мы, шаг за шагом, описали эпистемологический круг — от разума назад к разуму. Результаты подобных рассуждений, вероятно, больше пригодятся восточным мистикам, чем нейрофизиологам и молекулярным биологам; и тем не менее, получившаяся петля — прямое следствие комбинации идей трех признанных авторитетов в соответствующих областях науки. Поскольку редко кому приходится работать одновременно более чем с одной парадигмой, данная проблема до сих пор привлекала мало внимания.
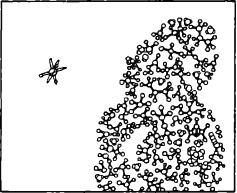
Если мы не согласны с этой эпистемологической кругообразностью, нам остаются две противостоящих области: физика, утверждающая, что она полна, поскольку описывает всю природу, и психология, считающая себя всеобъемлющей, поскольку она имеет дело с разумом, единственным источником нашего знания о мире. Однако оба эти взгляда не свободны от проблем, так что нам, может быть, не мешает вернуться к кругу и взглянуть на него с большей симпатией. Хотя он и лишает нас абсолютов, но, по крайней мере, он принимает во внимание проблему Тело-Разум и предоставляет основу, на которой могут контактировать индивидуальные дисциплины. Возможно, что этот круг представляет из себя наилучший подход к теоретической психологии.
* * *
Характерный для социобиологов редукционистский подход также не свободен от проблем, когда дело доходит до строго биологического уровня. Дело в том, что он включает предположение о постепенной эволюции от ранних млекопитающих до человека — а это в свою очередь предполагает, что разум — или сознание — не был внезапным скачком. Подобное предположение вряд ли оправдано, принимая во внимание многочисленные примеры дискретности в эволюции. Само происхождение вселенной, Большой Взрыв, — космический пример дискретности. Зарождение жизни, хотя и не было подобным катаклизмом, — еще один пример того же.
Кодирование информации в генетических молекулах внесло возможность серьезных нарушений равновесия в законах, управляющих вселенной. Например, перед приходом генетической жизни колебания температуры и шума были уравновешены, из чего следовали точные законы планетарного развития. Однако после этого единственное молекулярное событие на уровне термального шума могло привести к макроскопическим последствиям. Если этим событием оказывалась мутация в самовоспроизводящейся системе, оно могло изменить весь ход эволюции. Единичное молекулярное событие может убить кита, вызвав у него рак, или разрушить экосистему, произведя на свет сильнейший вирус, атакующий основные виды системы. Появление жизни не отменяет законы физики, но добавляет к ним новую особенность: глобальные последствия молекулярных событий. Это изменение в правилах делает историю эволюции неопределенной и, таким образом, представляет из себя яркий случай дискретности.
Некоторые современные биологи считают, что появление разума в процессе эволюции приматов — еще один пример подобной дискретности, изменяющей правила. Так же, как прежде, новая ситуация не меняет биологических законов, но требует новых подходов к проблеме. Эволюционный биолог Лоренс Б. Слободкин определил новую черту системы как интроспективное представление о себе. Эта особенность, утверждает он, изменяет ответ на эволюционные проблемы и делает невозможным объяснение исторических событий как прямых следствий законов биологического развития. Слободкин предполагает, что правила изменились и что человека нельзя понять согласно тем же законам, какие приложимы к остальным млекопитающим, чей мозг имеет похожую физиологию.
Эта возникающая в процессе эволюции черта в той или иной форме давно интересует антропологов, психологов и биологов. Она относится к опытным данным, которые не могут быть “убраны на полку” только лишь для того, чтобы сохранить чистоту редукционистского подхода. Эта дискретность должна быть полностью изучена и оценена, но вначале ее необходимо признать. Приматы сильно отличаются от остальных животных, а человеческие существа сильно отличаются от приматов.
Теперь мы понимаем, что стопроцентный редукционизм не является ответом на загадку разума. Мы обсудили слабость этой позиции. Она не только слаба, но и опасна, поскольку наши отношения с остальными человеческими существами зависят от того, как мы концептуализируем их в наших теоретических построениях. Если мы видим ближних лишь как животных или машины, мы лишаем наши взаимоотношения человеческого тепла. Если мы ищем объяснения нашим поведенческим нормам в изучении обществ животных, мы игнорируем те специфически человеческие черты, что так украшают нашу жизнь. Радикальный редукционизм объясняет весьма мало в области моральных императивов. К тому же он предлагает неверный глоссарий для гуманистических целей.
Научное сообщество достигло значительных успехов в изучении мозга, и я разделяю энтузиазм в отношении нейробиологии, характеризующий современные исследования. Тем не менее мы должны проявить определенную осторожность в формулировке утверждений, выходящих за пределы науки и ставящих нас на философские позиции, обедняющие человеческую природу отрицанием одной из самых интригующих особенностей нашего вида. Недооценка появления и характера самосозерцающей мысли — слишком высокая цена, заплаченная нашими редукционистскими предками несколько поколений тому назад за освобождение науки от теологии. Человеческая психика — часть научных данных. Мы можем не отказываться от этого и, тем не менее, оставаться хорошими биологами и психологами.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ИСТОКИ РАЗУМА
ИСТОКИ РАЗУМА Все мы знаем, что человека отличает от животных чрезвычайное развитие его головного мозга. И конечно, все мы понимаем, что развился он у нас не вдруг, не на пустом месте. Что у предшественников наших на Земле тоже был головной мозг и степень развития его у
Глава 20 МАТЕРИЯ ВО ВЛАСТИ РАЗУМА
Глава 20 МАТЕРИЯ ВО ВЛАСТИ РАЗУМА За двадцать лет до того, как UKACO пала под натиском химических корпораций и Министерства сельского хозяйства, в Великобритании появилась книга под названием «Цепь жизни» (Chain of Life) английского хирурга Гуйона Ричардса (Guyon Richards). Работая
Новое устройство враз не прилаживается
Новое устройство враз не прилаживается По прошествии 31 тыс. поколений в одной из 12 подопытных популяций (ее условное обозначение — Ara-3) произошло что-то странное. Напомним, что бактерий ежедневно пересаживают в колбы с новой питательной средой. Сначала бактерии быстро
Чтобы построить новое, нужно расшатать старое
Чтобы построить новое, нужно расшатать старое Простейшие эволюционные модели предполагают, что новые адаптивные признаки развиваются по следующей схеме.• Сначала происходит случайная мутация в ДНК.• Эта мутация неким вполне определенным образом проявляется в
Глава V. Новое в профилактике
Глава V. Новое в профилактике
СВЯЗЬ РАЗУМА И ТЕЛА
СВЯЗЬ РАЗУМА И ТЕЛА Эти эксперименты должны прояснить вопрос о том, как связаны наши разум и тело. Выходит ли разум за пределы тела или он ограничивается головным мозгом? Ощущения говорят о том, что он занимает все тело. Например, если я чувствую боль в большом пальце ноги,
Часть 3 Вне разума
Часть 3 Вне разума Никого из нас не заливает краска стыда из-за того, что все мы рождаемся и умираем как животные. Отчего же стыдиться, что во многих своих пристрастиях и поступках мы руководствуемся инстинктом? Виктор Дольник Младенец сосет сиську. И это никого не
Глава 1 Имитаторы разума
Глава 1 Имитаторы разума Вы когда-нибудь видели морские узлы? Хрен запомнишь ведь, куда какой конец совать! Нужно сильно поучиться, чтобы завязывать такие узлы. Человеческий гений придумал их!.. Однако узлы аналогичной сложности умеют вязать и некоторые птицы, например
Сны разума рождают химер
Сны разума рождают химер Человекообразным обезьянам из-за крупных размеров хищные птицы и змеи не опасны. Но небольшие древесные обезьяны (а наши отдаленные предки были и такими) очень боятся и хищных птиц, и сов, и змей, охотящихся на приматов среди ветвей. Наша
Критика нечистого разума
Критика нечистого разума Аристотель жил в эпоху, когда в Древней Греции демократические государства умирали одно за другим, уступая олигархии, а македонские цари Филипп и сын его Александр начали создавать автократическую империю с замахом на мировую. Так что
ДЕМОКРАТИЯ — ПЛОД РАЗУМА, НО НЕ ТОЛЬКО ЕГО
ДЕМОКРАТИЯ — ПЛОД РАЗУМА, НО НЕ ТОЛЬКО ЕГО К счастью для нас, иерархические программы — не единственные программы общения, заложенные в нас когда-то естественным отбором. Есть альтернативные программы, на основе которых мы можем строить иные отношения.Объятия и улыбки.
ВСЁ НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ!
ВСЁ НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Археологи отмечают, что в различных частях света, где обнаружены следы древней высокой культуры, сейчас уже ничего не напоминает о былом величии тех мест. Остались лишь каменные изваяния богов и архитектурные шедевры — немые свидетели
1. Происхождение разума
1. Происхождение разума Следующий по порядку важности после вопроса о происхождении жизни вообще — это вопрос о происхождении человека. Откуда взялось такое существо, к тому же мыслящее, то есть осведомленное о собственной смертности, умеющее решать алгебраические
Назад к природе или эволюция разума?
Назад к природе или эволюция разума? Увлечение здоровым образом жизни и доступной в сети информацией о сыроедении, знакомит человека с самими разнообразными взглядами на то, каким должен быть этот образ питания. Давайте же в этой главе выясним, каким должно быть